Моисей постмодерна [ Редагувати ]
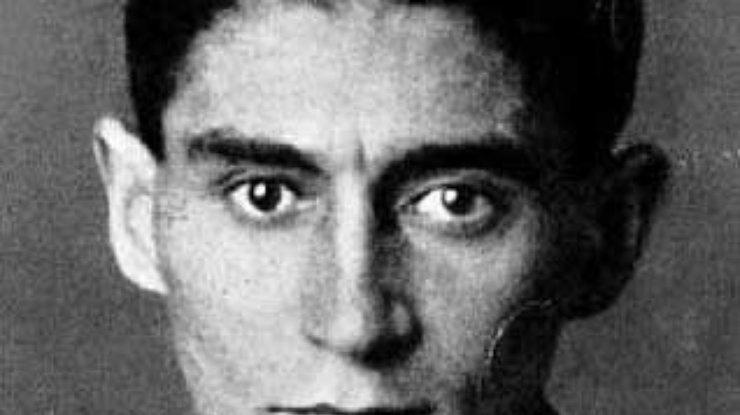 Моисей постмодерна
Моисей постмодерна
80 лет назад умер Франц Кафка - немецкоязычный еврей, чиновник пражской страховой конторы и австрийский писатель, признанный ныне едва ли не самым адекватным олицетворением не только западной литературы ХХ века со всеми ее направлениями, течениями и школами, но и самого века - с его войнами, концлагерями и геноцидами.
При этом странная штука: любая попытка сочинить хоть одну адекватную фразу о самом Кафке лично мне представляется безнадежной. Нет, конечно, о нем писали и продолжают писать - много и хорошо. Один список авторов чего стоит: Брод, Беньямин, Батай, Камю, Бланшо, Канетти... Кстати, недавно и в Украине вышла о Кафке ювелирная по исполнению книга Евгении Волощук "Хроника странствий духа", из которой я собираюсь позаимствовать несколько идей. То есть, при желании о его жизни и творчестве можно узнать намного больше, чем он сам о них знал. Просто с Кафкой как-то так получается, что самая злонамеренная ложь о нем в определенном ракурсе оказывается правдивой, а самая добросовестная правда вдруг оборачивается враньем.
Кафка - невинная жертва тирана-отца, изгой и семейный страдалец? Но факты скорее говорят о почти тепличных условиях, созданных семьей для любимого Франца, который платил родным тщательно зафиксированными в "Дневнике" ненавистью и презрением. Кафку не понимали глупые Фелица Бауэр и Юлия Вохрыцек? Так ведь не каждая невеста способна понять жениха, который настойчиво умоляет ее выйти за него замуж и в то же время ищет малейший повод, чтобы расстроить свадьбу. Кафка панически боялся сексуальных контактов (его знаменитое определение "коитуса как кары за счастье быть вместе")? Возможно, но, во всяком случае, он неплохо с этим страхом справлялся в охотно посещаемых им борделях. Кафке мешала по-настоящему творчески развиваться болезнь? Но до открывшегося в 1917 году туберкулеза с ним случались разве что мигрени да расстройства желудка, которые, прямо скажем, нередко донимают писателей, как обычных смертных. В Кафке убивала творца работа в ненавистной канцелярии? Но его рабочий день заканчивался в 14.00, а интеллигентный и обходительный шеф (души, между прочим, в своем подчиненном не чаявший) в любое время готов был предоставить (и предоставлял) Кафке длительный оплачиваемый отпуск.
С другой стороны: Кафка - знаток торы, талмудист и сионист? Откроем "Дневник": "Что у меня общего с евреями? У меня даже с самим собой мало общего". Или вот еще благочестивая запись: "В клозете нельзя думать о торе, поэтому там можно читать светские книги. Весьма набожный пражанин, некий К., обладал широкими светскими познаниями - все это он изучил в клозете". Кафка - "апокалиптический пророк", предчувствовавший все катастрофы ХХ века? Но первую из них ему не нужно было предчувствовать - она разворачивалась на его глазах, о чем он и записал: "2 августа. Германия объявила России войну. После обеда школа плавания".
Собственно, тут и возникает проблема: несмотря на все перечисленные (и сотни неперечисленных) возражения, Кафка все-таки был жертвой, изгоем и страдальцем, религиозным писателем и пророком. Но, будучи "изреченной" и облаченной в обветшавшие платья слов, эта мысль, как и всякое другое соображение о Кафке, превращается... нет, не в ложь, а в пошлость. Трагикомическое несоответствие между планом содержания и планом выражения лучше всех, конечно, понимал сам писатель: "Высказанная мною вслух мысль сразу же и окончательно теряет значение". Хотя понимал он и другое: "Записанная, она тоже всегда его теряет, зато иной раз обретает новый смысл".
Кажется, этим перманентно повторяющимся "иным разом" и можно объяснить тот факт, что читатели разных поколений и профессий, в разных странах и под властью разных режимов вновь и вновь узнают в притчах Кафки "новые смыслы" своих собственных мытарств в неизменно абсурдном мире. (Вот, к примеру, цитата, исчерпывающе описывающая современную Украину: "Если поглядеть на нас просто, по-житейски, мы находимся в положении пассажиров, попавших в крушение в длинном железнодорожном туннеле, и притом в таком месте, где уже не видно света начала, а свет конца настолько слаб, что взгляд то и дело ищет его и снова теряет, и даже в существовании начала и конца нельзя быть уверенным".)
Хорошо, но возникает вопрос: каким образом Кафка, холодный и равнодушный к близким людям, бесконечно отчужденный от всего остального человечества и озабоченный исключительно желанием изобразить свою частную, "исполненную фантазий внутреннюю жизнь", сумел рассказать эти неисчерпаемые с точки зрения всевозможных интерпретаций символические сюжеты? Один из ответов предлагает упомянутая уже книга Евгении Волощук. Кафка, как никто из писателей эпохи модерна, был служителем Абсолюта - во всех смыслах этого слова. В любви и семейной жизни, в устройстве мира и композиции новеллы его могло удовлетворить только совершенство. В поисках Абсолюта он погружался в самые мрачные бездны своей души и вытаскивал оттуда на свет Божий архетипичные формы нашего существования и миропонимания. В этом-то и состоит его главный литературный подвиг. Но в этом заложен и главный парадокс Кафки, ибо там, где он искал, найти Абсолют невозможно. Его вообще невозможно найти, потому что в эпоху модерна нет никакого Абсолюта. На небе - то же, что и на земле: Бог умер, остались одни проекции коллективного бессознательного. И когда эти проекции, выдавая себя за Абсолют, овладевают массами, начинаются беззаконные процессы с бессмысленными замками и концлагеря с геноцидами. Как ни кощунственно звучит, но у Кафки есть общая черта, например, с Гитлером и Сталиным: он тоже постоянно выискивает "врагов", мешающих достичь идеала. Конечно, Кафка видел идеал не в строительстве ГУЛАГа или Освенцима, а в том, чтобы "привести мир к чистоте, правде, незыблемости", но в эпоху подмены божественных истин человеческими незыблемость может оказаться, скажем, партийной, правда - классовой, а чистота - национальной.
Однако нельзя забывать и о принципиальной разнице: Кафка свой абсолютный опыт ставил исключительно на самом себе. Он впустил в себя "болезнь модерна", и на примере личной катастрофы показал, к чему приводит требование Абсолюта в обезбоженном мире. Убедившись, что единственным препятствием на пути к совершенству является его слишком человеческая природа, Кафка воскликнул: "Доктор, дайте мне смерть, иначе вы - убийца!" Проблуждав по пустыне жизни сорок лет, он передал книги своего бытия и исхода Максу Броду - и попросил их сжечь. Брод, как известно, просьбу не выполнил - и мы оказались лишены возможности оправданий: нас-де никто не предупреждал о последствиях.
Как носитель пророческого слова Кафка успел намекнуть на путь к спасению, хотя как человек, усомнившийся в силе этого слова, он должен был умереть перед входом в обетованную землю литературы. Сам способ его художественного мышления, отбрасывающий антитезные эффекты, оказался ничем иным, как преодолением базирующегося на принципе бинарных оппозиций "проекта модерна". Можно в чем угодно упрекать постмодерных писателей и философов, но только не в игнорировании опыта Кафки: человеческим истинам они вернули статус всего лишь человеческих. С божественными, видимо, придется подождать лучших времен.
Александр Бойченко, "Столичные Новости"






