Десять лет компромиссов и борьбы [ Редагувати ]
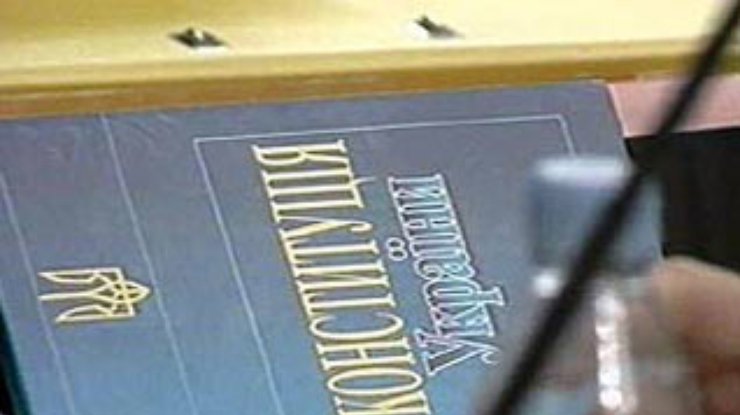 Десять лет компромиссов и борьбы
Десять лет компромиссов и борьбы
Сегодня Украина празднует первый взрослый юбилей своего Основного закона, который был принят в историческую ночь с 27 на 28 июня 1996 года. Сейчас это звучит как-то обыденно. Ну, приняли нардепы Закон, ну, счастливы были, ну, боялись немного Кучму. Однако, как сказал один из творцов этой можно сказать без преувеличения государственного масштаба победы, "конституции легко никогда не даются!"
Любое событие необходимо рассматривать в контексте исторических нюансов, которые обуславливают его характер. Если коротко описать ситуацию в стране образца 1994-1996 годов, то нынешняя политическая расстановка сил по сравнению с ней покажется многим наблюдателям просто праздником.
Во внешней политике сложные отношения с Россией, переговоры по поводу статуса города Севастополя и раздела Черноморского флота, а также как результат "братских" двухсторонних отношений конфликт между центральной властью и тогдашним правительством Автономной республики Крым во главе с Мешковым. Параллельно к этому отказ Украины от статуса ядерного государства и прием страны в 1995 году в Совет Европы.
Во внутренней же политической ситуации обозначилось двоевластие и жесткая борьба двух центров власти, коими являлись на тот момент только что избранный президент Леонид Кучма и спикер законодательного органа Александр Мороз. Первый представлял группу так называемых "красных директоров", условную партию работодателей, которые лоббировали высокотехнологические отрасли экономики, а второй - коксохимическую промышленность, аграрный сектор и так далее, а также условную партию трудящихся. Это противостояние досталось обоим от их предшественников, первого президента независимой Украины Леонида Кравчука и председателя Верховной Рады первого созыва Ивана Плюща. Не стоит забывать также и жесточайшем противостоянии внутри самого парламента, где, в отличие от сегодняшних реалий, борьба шла больше по идеологическим мотивам. Правые "воевали" с левыми, умеренное крыло которых представляла Социалистическая партия Мороза, а маску радикала одела на себя КПУ, чье представительство в ВР второго созыва было очень большим.
Первые 5 лет самостоятельного плавания Украина руководствовалась ошметками декларативной конституции Украинской Советской Социалистической республики, бывшей в свое время достаточно прогрессивной. Однако назревала необходимость принять, наконец, Конституцию независимой Украины (КУ).
Как писало тогда "Зеркало недели": "Во-первых, Украина, за годы независимости растерявшая свой недюжинный экономический потенциал, тем не менее, выступила своеобразным конституционным инвестором на постсоюзном пространстве. Одной из первых провозгласив Декларацию о государственном суверенитете, наработав основы Конституции независимого государства, Украина сегодня - единственная из республик бывшего СССР независимая страна, не имеющая новой Конституции. Это имеет серьезные внешние и внутренние последствия. Во-вторых, в Украине, не имеющей правового фундамента под развитием нового законодательства, очевидна дилемма: с одной стороны - глубокие конституционные традиции (вспомним первую казацкую Конституцию Пилипа Орлика), с другой - полное безразличие подавляющего числа населения к тому, что у нас нет новой Конституции. Общая мысль такова: нет, ну и черт с ней, жалко только, что выходной отменили. А отсюда и правовой нигилизм, и правовая безграмотность, и всеобщее пренебрежение законами, в силу и действенность которых никто не верит".
Ко всему написанному выше хотелось добавить, что, без него Украину, к примеру, не приняли бы в Совет Европы. А еще Европейское и мировое сообщество всегда с осторожностью относится к стране, которая продолжает жить по переделанной Конституции колониального периода, которая пестрит кучей явных противоречий концептуального характера.
Несоответствия в Конституции позволяли противникам реформ всегда объявлять их неконституционными. А еще необходимо было разрешить главное противоречие тогдашней внутренней политики. Дело в том, что старый основной закон не разграничивал полномочия трех ветвей публичной власти. Достаточно сказать, что подобные проблемы возникали у всех постсоветских режимов в первой половине 90-х. Можно вспомнить расстрел российского парламента танками Ельцина в октябре 1993 года и гибель сотен людей при этом. В Украине до крови не дошло, но конфликт властей валил множество, как нужных законов, так и необходимых практических действий. До них просто руки не доходили во время разборки "кто в доме хозяин".
Процесс работы над Конституцией занял почти 2 года. За это время произошло многое. Были представлены варианты Конституции, когда президент предлагал создать двухпалатный парламент, намекая на желание "прикарманить" палату сенаторов, или же когда коммунисты предлагали принять конституцию, в которой бы не было места президенту. Александр Мороз и парламент отвергли "пропрезидентский" вариант Закона. И тогда, в 1995 году, был подписан интересный документ, который назвали Конституционным договором. Он предусматривал разработку Основного Закона страны специально созданной для этого комиссией, в которой было 8 секций, аккурат по количеству разделов в будущей Конституции. Сопредседателями комиссии были назначены президент и спикер ВР. В случае же непринятия Конституции до 1 июля 1996 года предусматривался роспуск парламента и проведение плебисцита. Со стороны исполнительной власти творением Конституции занимался тогдашний и теперешний министр юстиции Сергей Головатый, который, впоследствии, и был единственным членом правительства, проголосовавшим за новый закон.
И, наконец, апофеозом стала так называемая "конституционная ночь" с 27 на 28 июня 1996 года - 23 часа беспрерывной работы парламентариев, когда ощущение политического цейтнота смешалось с желанием отстоять, как бы это пафосно ни звучало, демократию. В случае непринятия парламентского, намного более демократичного, по сравнению с президентским, варианта Основного Закона, на 15 сентября 1996 года должен был быть назначен плебисцит. Можно сказать, что эта ночь была последним отголоском романтико-идеологического периода истории украинского парламентаризма, когда за власть боролись в большей мере идеи, а не представители крупных финансовых кланов.
Тогда, с 27 на 28 июня парламентарии, журналисты, работники аппарата, службы безопасности и буфета покидали здание Верховной Рады в приподнятом настроении. Конституционная ночь вошла в историю с результатом голосования - 321 голос "за". Он стал возможен только после того, как были согласованы спорные вопросы: о символике (коммунисты были "против") и о распределении полномочий между Верховной Радой и президентом ("против" был Кучма).
Как говорят члены Конституционной комиссии, проект основного закона согласовывался чуть ли не ежедневно. По ночам готовились сравнительные таблицы, а днем документ рассматривали в сессионном режиме. Работа над Конституцией шла почти круглые сутки. По этому поводу Александр Мороз сказал: "Самой светлой страницей в истории была Конституционная ночь. Приблизительно в 3 ночи было принято решение парламента относительно остановки рассмотрения Конституции, пока не придут те, кто не был на заседании или не участвовал в голосовании. И когда я увидел, что люди возвращаются в зал, я понял, что Конституция будет принята".
Тогда председатель межфракционной согласительной комиссии Михаил Сирота провел на трибуне не один час. За это время он успел принять несколько обезболивающих таблеток, выпить 14 стаканов чая и две чашки кофе.
5 июля очевидец этих событий журналист газеты "Зеркало Недели" Юлия Мостовая писала в своем материале "Дело чести": "Двери сессионного зала никто не запирал, никто, разбросав руки, не стоял в проходе. Почти четыреста человек в течение 24 часов, фиксируя открывающееся второе, третье, десятое дыхание, принимали статью за статьей. Принимали, нередко попирая собственные принципы, убеждения; проглатывали ком обиды, унижались друг перед другом, перед исполнительной властью, перед ситуацией. Нет сомнений в том, что большинство находящихся в зале в ночь с 27-го на 28-е пережили целую драму. Но во имя чего? Во имя стремления сохранить привилегии, приносимые парламентским креслом, и депутатскую неприкосновенность? Возможно, поначалу для некоторых именно это ощущение послужило толчком для того, чтобы принять внутреннее решение не покидать зал до победного конца. Но по мере того, как в конституционных "песочных" часах принятые двумя третями голосов статьи пересыпались и преобладали над непроголосованными, все происходящее казалось уже не защитой и не самообороной, и не отстаиванием политического баланса в обществе, и даже не защитой демократии. Для большинства принятие Конституции стало делом чести. Причем чести как своей, так и Украины... Когда доголосовывались последние статьи Конституции, работники секретариата ВС внесли в зал Государственный флаг и установили его у президентского кресла. По депутатским рядам пробежал настороженный шумок. Леонид Кучма вошел в зал один, пожал руку Морозу и сел в полупустую ложу правительства. Удовлетворенные проделанной ими гигантской работой, они смягчились, когда президент принес "в некоторой степени свои извинения" за не совсем корректные методы стимулирования конституционного процесса".
И Кучма тогда смеялся, и депутаты, которые сохранили человеческое достоинство и поддались гаранту, которому с того памятного дня было, что гарантировать. А он, в свою очередь, доволен тем, что все-таки кое-что ему удалось получить. Конституция не давала права парламенту формировать правительство - как и ранее, это была прерогатива президента. Как и назначение всех силовых министров. При этом, она не закрепляла за президентом ответственности за все провалы во внутренней и внешней политике, и вообще какой-либо ответственности не было за ним. Согласно новой Конституции, президенту практически невозможно объявить импичмент. Но и ему довольно проблематично было распустить парламент. Именно из-за того, что в этом случае вышла боевая ничья, и, по большому счету, статус-кво сохранился, Леонид Данилыч и не любил Конституцию. Ведь, в случае своей победы в этом противоборстве он обретал воистину царские полномочия. Но не срослось.
Необходимо сказать, что украинская Конституция, несмотря на ряд недостатков и обилие работы для Конституционного суда, называлась в Европе, а именно Венецианской комиссией, одной из лучших в мире. Причине здесь кроется, прежде всего, в ее сбалансированности и демократичности, когда четко были закреплены все права человека и гражданина согласно стандартам западной цивилизации. Большинство критических отзывов вызывают именно те разделы, в которых говорится о разделении полномочий трех ветвей власти в стране, принятых после ряда взаимных компромиссов.
В 2000 году был проведен референдум "по народной инициативе" объединенных "эсдеков" по внесению изменений в КУ, на который было вынесено 6 вопросов. А именно: вынесение вотума недоверия ВР 4 созыва, получение президентом права на досрочный роспуск парламента в случае неформирования парламентской коалиции в трехмесячный срок или же не принятие бюджета, перевод парламентских выборов на пропорциональную основу и так далее. 2 вопроса Конституционный суд позже отменил. Однако ВР спасло то, что в Конституции был прописан пункт, согласно которому изменения в основной закон государства должны вноситься после согласия не менее, чем 300 народных депутатов.
Кроме того, не стоит забывать и о "бархатной парламентской революции", которая состоялась в январе 2000 года. Тогда новообразованное парламентское большинство оставило помещение ВР и перенесло заседание в Украинский дом, где избрало новое руководство парламента. Между фракциями, которые образовали парламентское большинство, были распределены комитеты Верховной Рады. В парламентское большинство не вошли левые фракции, в частности, Коммунистической партии, Социалистической партии, Прогрессивной социалистической партии Украины, которые соответственно были лишены портфелей в ВР. Созданное тогда парламентское большинство было необходимо для поддержки внесения изменений в Конституцию Украины по результатам референдума 2000 года. Однако вследствие заострения в стране политического кризиса, связанного с "кассетным скандалом", парламентское большинство распалось. Внесение изменений было отложено фактически до 2004 года, когда в обмен на проведение 3 тура президентских выборов оппозицией было дано согласие на внесение в Конституцию изменений с 1 января 2006 года, большинство из которых еще даже не заработали в полную силу.
Михаил Сирота так прокомментировал возможность новых изменений: "Вряд ли это удастся. И первый, и второй разделы - наилучшие в европейском сообществе и не требуют изменений. Изменений и согласований требуют концептуальные разделы, касающиеся организации государственной власти в Украине. Новая концепция должна быть принята и реализована в редакции разделов "Президент Украины", "Кабинет министров", "Верховная Рада Украины".
Понятно, что изменения еще будут, и будет их много. Однако не следует думать, что сам Основной Закон плох. Необходимо просто... попробовать пожить, следуя главным его нормам, хотя бы для того, чтобы знать, что исправлять. А это нашим политикам совсем не удается.






