"Символизм тычинок и пестиков". Высокая культура или поп-культура? [ Редагувати ]
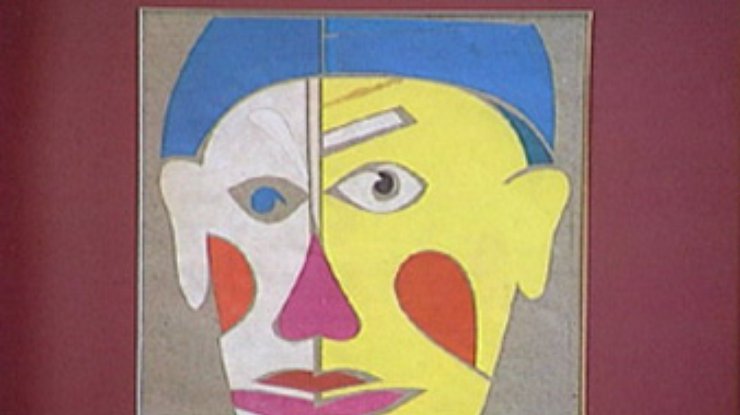 "Символизм тычинок и пестиков". Высокая культура или поп-культура?
"Символизм тычинок и пестиков". Высокая культура или поп-культура?
Та культура, которую мы знали в 1970-х и 1980-х, - была совершенно другой. Не будем вдаваться во все ее нюансы, но она была понятной, четкой, предсказуемой. Ныне же культура кардинально изменилась: под влиянием пресловутого «духа времени», сообщества потребителей, экономики, образования и т.д.
Понятно, что поп-культура занимает свое заслуженное высокое место в культурной журналистике. Но при ее оценке, освещении событий и акций та критичность, которая свойственна рассмотрению событий высокой культуры, - не свойственна. О высокой культуре принято говорить оценивая: хорошо или плохо, удачно или не совсем.
В 1974 году американский социолог Герберт Ганс (Herbert J. Gans) написал книгу «Поп-культура и высокая культура» ("Popular Culture and High Culture"). В 1999 году эта книга была переиздана, однако, - с существенными дополнениями к каждому из трех ее разделов. В первый раз, увидев свет, данная работа подвергла резкой критике феномен культурного консерватизма в массовой культуре и вдохновленный марксизмом дух «индустрии культуры» - почти как отрасли мировой промышленности. В то же время, Герберт Ганс восторгался поп-культурой и блестящими перспективами ее дальнейшего развития.
Аргументы американского ученого сводились к тому, что поп-культура выражает эстетические вкусы и предпочтения подавляющего большинства общества, равно как и то, что поп-культура не может быть с такой же легкостью коммерциализированной, как высокая культура, поэтому она будет нести в себе истинные культурные ценности. Более того, Ганс считал, что каждый индивидуум имеет право на культурное самовыражение, чего не позволяет сделать высокая культура. Американский социолог в деталях описывает различия между «высокой» и «низкой» культурой, привязывая их к различиям классовым и общественным. Но аргументы автора сводятся и к тому, что различия между высокой культурой и поп-культурой постепенно стираются, что является результатом процесса всемирной модернизации. По мнению Ганса, послевоенный модернизм нового уровня и появление поп-музыки стали двумя противоположными реакциями на экономический кризис и общественные изменения, прежде всего на Западе.
Ганс отмечает, как культуры нельзя классифицировать эссенциально, культуры, согласно его мнению, должно понимать как «исключительное дело вкуса», как выражение социализации индивидуума, рост его понимания и выработки ценностей. Именно такими являются культуры четких групп - молодежи 1960-х, афро-американской пригородных зон больших городов...
Однако Ганс четко определяет две культурно-политические альтернативы для общества. Одна из них - создание культурной мобильности посредством образования и народного просвещения, что приводит к приобретению индивидуумом изысканного высококультурного вкуса. Грубо говоря, сие можно свести к классической американской идеологии "public service". Но, у оппонентов этого подхода есть очень существенное возражение: получается, что такая культура навязывается свыше, а государство говорит массам «мы лучше знаем, что вам нужно». Альтернатива? Ганс называет ее «субкультурным программированием», когда личность в обществе предоставлена сама себе и в состоянии, полагаясь только на свой «внутренний голос», выбрать то, что ей по душе.
Но этот подход не предусматривает того, что все проявления культур являются приемлемыми для каждого, и что их выражения - равнозначны. Ганс смотрит критически на то, «что такое хорошо, а что такое плохо». Американский социолог берет на себя бремя «судьи ценностей», который наверняка «знает», чем является поп-культура, а чем - культура высокая.
С 1974 года и практически до конца 1980-х работа «Поп-культура и высокая культура» была чуть ли не настольной книгой всех американских культурологов. С одной стороны потому, что она была богата содержательной критикой современной американской культуры и глубокими пассажами, посвященными «культурным войнам», феномен которых широко обсуждался в американских масс-медиа на заре 1990-х.
Фронты этой войны проходят как через сферы культурных практик, так и в политике. Один из фронтов проходит между либеральным высококультурным вкусом так называемых нью-йоркских интеллектуалов и консервативным популизмом, требующим цензуры искусства, роль которой - поддержка «духа общества», выражаемого в популяристическом мейнстриме голливудских блокбастеров, поддержка того, что называется "middle America".
Американские культурные дебаты и взгляды на те или иные проявления «культур» во многом как схожи с европейскими, так и кардинально отличаются от них. На обоих континентах существует «вкусовая культура», выразителями которой служат интеллектуальные элиты, общественные институты, культурные фонды, организации, масс-медиа строгой направленности на «целевые аудитории».
Другая же, большая по объему «вкусовая культура», - также есть как в Америке, так и в Европе. Ее клиенты - социальные группы с меньшими доходами, худшим образованием и типичной привязкой к масс-медиа в виде... телевидения.
Как в Европе так и в США телевидение ориентировано исключительно на «попсу». Иначе и быть не может - в противном случае телеканалы приобретут одного «любителя-интеллектуала» в обмен на пару тысяч «попсовиков». Поэтому даже издания и телекомпании с именем, пользующиеся репутацией высокоинтеллектуальных, не могут себе позволить отхода от устоявшегося принципа «всеобщего попа», в котором значащее становится незначительным, а мелочь раздувается до невероятных размеров и выносится в анонс/на первую полосу. Такие имеют дело с потребительской публикой, а не солидным «заказчиком», готовым выложить за свои вкусы изрядную сумму.
Как в Старом так и в Новом свете есть лишь несколько масс-медиа, которые пытаются стереть грань между поп-культурой и культурой элитарной. Именно они рассматривают культуру как единое целое, не поддающееся систематизации, классификации. В Европе подобную функцию на себя взвалило лишь британское издание «The Observer». И то, чем занимаются его культурные журналисты - это не просто интеллектуальная рефлексия «попа» и упрощение «высокого». Они, скорее, создают новый тип культуры - культуру конвергентную, целостную, одновременно и популярную и элитарную.
В английском и американском есть такое стойкое выражение как "smartening up" - сглаживание, предусматривающее исключение из употребления надуманных высококультурных терминов но и, одновременно, отказ от попсового примитива - интеллектуализацию повседневного и иронизацию его.
«Культуры вкусов» в наше время перестали быть стабильными. Социальные группы ныне не чувствуют огромнейшей разницы между популярным и высоким, «элитарным» и «попсой». Иерархия вкусов, существовавшая со времен Великой французской революции, тает на глазах. В развитых обществах формируется «общая культура» для всепоглощающего потребителя - молодого, динамичного, высокообразованного и эмансипированного индивидуума. И эта «уравновешивающая культура» прекрасно вписывается в шаблон объединения «культуры вкуса» и логики рыночной экономики. Соответственно, журналистика также постепенно «искушается» процессами, происходящими в культуре - диффузии высокой культуры с «попсой».
Но породит ли это культурную журналистику нового уровня? Будут ли нас продолжать кормить репортажами типа «Вася Петечкин сегодня спел «Пчел» в найтклабе «Ба», по ходу пения поцеловал стриптезершу Машу, а после выступления укатил с Матальей Ногилевской в Ривер Бэлэс», или мы все таки сможем увидеть добротный анализ: качества пения исполнителей, глубины их чувств, переживаний, того «кусочка души», который они вкладывают в каждый свой сингл? Пока же можно констатировать одно: критическая культурная журналистика мертва, будучи задавленной поп-культурой с ее требованиями и «фе». Поп-культуру нужно рассматривать с тех же позиций, что и культуру высокую - аналитически, и с чистой критической совестью, приправленной высококультурным сознанием. Потому как нет сомнений в том, что хорошо, а что - плохо; что важно, а что - второстепенно.






