Борис Пастернак: природа, мир, тайник вселенной... [ Редагувати ]
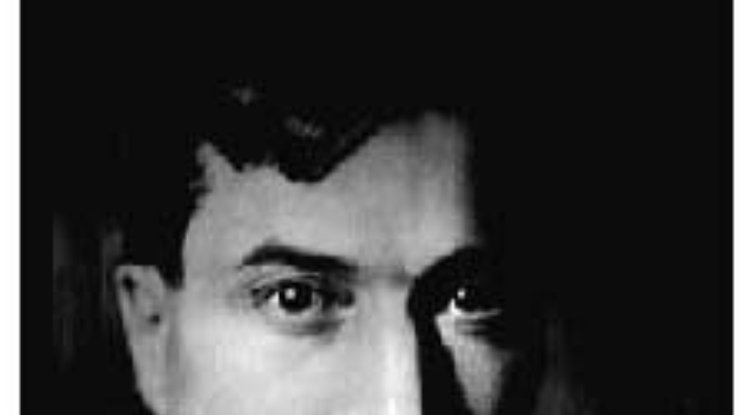 Борис Пастернак: природа, мир, тайник вселенной...
Борис Пастернак: природа, мир, тайник вселенной...
Борис Леонидович Пастернак родился в Москве. Отец его был художником, мать - известной пианисткой. Пастернак был с детства окружен искусством. В доме, где он рос, бывали музыканты, художники, писатели, и среди них - Лев Толстой.
Под влиянием крупного русского композитора Скрябина тринадцатилетний Пастернак увлекся музыкой. Но в 1909 году он оставляет мысль о композиторстве и поступает на философское отделение историко-филологического факультета Московского университета. Для совершенствования в области философии Пастернак отправляется в Германию, где учится в университете в Марбурге. И хотя изучение философии идет у него успешно, он расстается с ней так же решительно, как раньше расстался с музыкой.
Пастернак начинает писать стихи. В 1914 году выходит первый его поэтический сборник "Близнец в тучах". Поэзия становится его призванием, его "почвой и судьбой". Она вобрала в себя и его страсть к музыке, и интерес к философии.
В стихотворении, посвященном Пастернаку, А. Ахматова писала: "Он награжден каким-то вечным детством".
"Вечное детство" составляло самую суть поэтической личности Пастернака. Широко раскрытыми глазами смотрел он на мир, не уставая удивляться ему, восхищаться его пленительным разнообразием. На первых порах своей поэтической деятельности Пастернак писал изысканные стихи для узкого круга ценителей. Перелом произошел в 20-е годы, когда поэт обратился к социальным проблемам. Суть происшедшего с Пастернаком хорошо охарактеризовал М. Горький в письме к поэту после знакомства с его поэмой "Девятьсот пятый год": "Книга - отличная; книга из тех... которым суждена долгая жизнь. Не скрою от вас: до этой книги я всегда читал стихи ваши с некоторым напряжением, ибо - слишком чрезмерна их насыщенность образностью и не всегда образы эти ясны для меня... В "905 г." Вы скупее и проще, Вы классичнее в этой книге, насыщенной пафосом, который меня, читателя, быстро, легко и мощно заражает". Дальнейшее поэтическое развитие Пастернака, шло именно по пути, названному Горьким,- он становился "скупее, проще, классичнее".
Литературная деятельность Пастернака была разнообразна. Он писал прозу, занимался переводами, достигнув в этом искусстве высокого мастерства, был автором поэм, романа в стихах "Спекторский". Но наиболее значительна все же его лирика. Он владел талантом выражать глубокие и тонкие человеческие чувства и мысли через посредство проникновенных картин природы. Восхищение красотой мира, стремление отыскать повсюду прекрасное характерно для Пастернака.
Известны переводы Пастернаком "Фауста" Гете, трагедий Шекспира, а также стихотворных произведений поэтов национальных республик нашей страны и зарубежных народов.
С особой силой проявился стихийно-игровой дар Пастернака в изображении природы , тяготеющего к моментальной и бурной смене впечатлений, сплетению разнокачественных образов и ассоциаций. В природе, как ее видит поэт, преобладает беспорядок, свежий хаос, наплыв безудержных влечений, хлещущих через край ("Сестра моя - жизнь и сегодня в разливе, //Разбилась весенним дождем обо всех...").
Причем это не таинственная, неодолимая, страшная стихия (метельная, ветровая, звездная), как в творчестве А.Блока, а скорее беспрестанная игра, веселая и дерзкая: воздух "шипучкой играет от горечи тополя"; во время снегопада "крадучись, играя в прятки, // Сходит небо с чердака"; на море, поднятые ветром "барашки грязные играли"; "сколько надо отваги // Чтоб играть на века, // Как играют овраги, // Как играет река" ("После дождя", "Снег идет", "Вакханалия").
Характерны такие пастернаковские эпитеты к природе: Характерны такие пастернаковские эпитеты к природе: "обалдев", "одурев", "ошалев", "в бреду", "в лихорадке", "был мак, как обморок", "грозой одуренная влага", соловей "кору одурял", он как "ртуть очумелых дождей", от него "ошалелое щелканье катится", "и шелест листов был как бред", "речь половодья - бред бытия" ("Маргарита", "Белая ночь", "Душная ночь" и другие).
Причем этот бред - от здоровья, от избытка сил, не вмещающихся в разумные пределы, природа действует и говорит взахлеб, опрометчиво, бессознательно: ручей "полубезумный болтун" ("Опять весна"), июль - "степной нечесаный растрепа" ("Июль").
Ни у кого природа не одушевлена так, как у Пастернака; причем у нее душа озорницы, проказницы, движения которой суматошны и порывисты: "вырывается весна нахрапом", "за окнами давка, толпится листва", "сад тормошится", "рушится степь"... Если у С.Есенина преобладает прием олицетворения: неодушевленные явления приобретают облик людей и животных (ветер - отрок, месяц - ворон), то у Пастернака, при отсутствии наружного сходства, очеловечиваются сами действия, повадки природы - своенравной, бесчинной, неугомонной ("Небо в бездне поводов, // Чтоб набедокурить" - "Звезды летом", 1922).
Любимые пастернаковские образы - мелкие дробные части природы: ветки, почки, капли, льдинки, звезды, градинки, снежные капельки, стручки гороха, все, что сыплется, брызжет, катится, шевелится, трепещет, воплощая неусыпное кипение жизни ("Ты в ветре, веткой пробующем...", "Душистою веткою машучи...", "Определение поэзии", "Давай ронять слова..."). Безусловное первенство в русской поэзии принадлежит Пастернаку по таким мотивам, как дождь и ливень ("После дождя", "Дождь", "Лето", "Счастье", "Имелось" и др. - всего 15 стихотворений), гроза ("Июльская гроза", "Гроза моментальная навек", "Наша гроза", "Приближенье грозы" и другие - 14 стихотворений). Этим наглядно выражается представление поэта о том, что "кипящее белыми воплями // Мирозданье - лишь страсти разряды, // Человеческим сердцем накопленной" ("Определение творчества", 1922): дождь и гроза, в соответствии с древними мифологическими представлениями, знаменуют страстное, оплодотворяющее соединение земли и неба, их священный брак.
Отсюда же и тяга поэта к образам сада и соловья с их предельным напряжением жизненных сил, рвущихся наружу цветением и пением - "всей дрожью жилок" ("Как бронзовой золой жаровень...", 1913; "Плачущий сад", 1922; "Ты в ветре, веткой пробующем...", 1922; "Здесь прошелся загадки таинственный ноготь...", 1923; "Во всем мне хочется дойти...", 1956).
Эти мотивы сближают Пастернака с Фетом - так же, как и общая лирическая страстность, неистовость, обилие запахов и "трепетов", достигающих порога синестезии, когда все ощущения (зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные) сливаются в одно: "пахнет сырой резедой горизонт", соловей "как запах от трав исходил", "кипящее белыми воплями мирозданье".
По количеству стихотворений, посвященных временам года и отдельным месяцам, Пастернак также занимает первое место в русской поэзии. Как никто, он чувствителен к смене дней, к продленному мгновенью - "и дольше века длится день"; характерны для него "сезонные" и "суточные" названия, приурочивающие пейзаж к определенному моменту времени ("После дождя", "Зазимки", "Единственные дни", "Кремль в буран конца 1918 года", "Январь 1919 года", "Февраль. Достать чернил и плакать...", "Март", "Июль", "Август"). Хотя "зимних" стихотворений у Пастернака больше, чем "летних" (18 и 12), именно последние резче выделяют его на фоне преобладающих зимне-осенних мотивов русской поэзии (так, на 139 стихотворений, посвященных зиме, и 170 - осени, лишь 41 - лету).
Тонкая поэтическая интуиция тепла, жара, по летнему распаренного и "растрепанного" состояния природы ("В лесу", "Лето", "Летний день", "Когда разгуляется" и др.) сказалась и в стихах, посвященных Югу, Кавказу, Грузии ("Мчались звезды. В море мылись мысы...", "Волны", "Пока мы по Кавказу лазаем...", "Путевые записки"). Выделяет Пастернака и его сравнительно редкое в отечественной поэзии пристрастие к морю, к этому "допотопному простору", единственному, чему "не дано примелькаться" ("Девятьсот пятый год", "Тема", "Вариации" и др.).
Новое у Пастернака - и те образные ряды, с которыми он сопрягает природу, впуская ее в будничность и простоту повседневной жизни: вьюга "вяжет из хлопьев чулок", "пыль глотала дождь в пилюлях", "сто слепящих фотографий ночью снял на память гром", "зари вишневый клей" и пр. В качестве метафорических подобий берутся предметы домашнего обихода - в отличие от преобладающих "церковных" сравнений у Клюева ("храм", "ладан"), "животных" у Есенина ("теленок", "лягушка"), "физиологических" у Маяковского (звезды - "плевочки", солнце - "ранка", небо - "распухшая мякоть").
Одна из своеобразнейших черт пастернаковского видения природы - стремление определить через нее сущность поэзии и вдохновения ("это - щелканье сдавленных льдинок", "внезапные, как вздох, моря", "ты - лето с местом в третьем классе" - "Определение поэзии", 1922; "Так начинают. Года в два...", 1922; "Поэзия", 1922; "Про эти стихи", 1920; "Весна", 1921-1923; "Определение творчества"; "Давай ронять слова"; "Во всем мне хочется дойти..."). С другой стороны, поэтичность и словотворчество заложены в самой сути природы и составляют еще один устойчивой метафорический ряд ("исписанный инеем двор", ливень кропает "акростих, // Пуская в рифму пузыри", "нив алфавиты" - "Двор", 1917; "Поэзия"; "Любимая, - молвы слащавой...", 1931; "Зима приближается", 1943).






